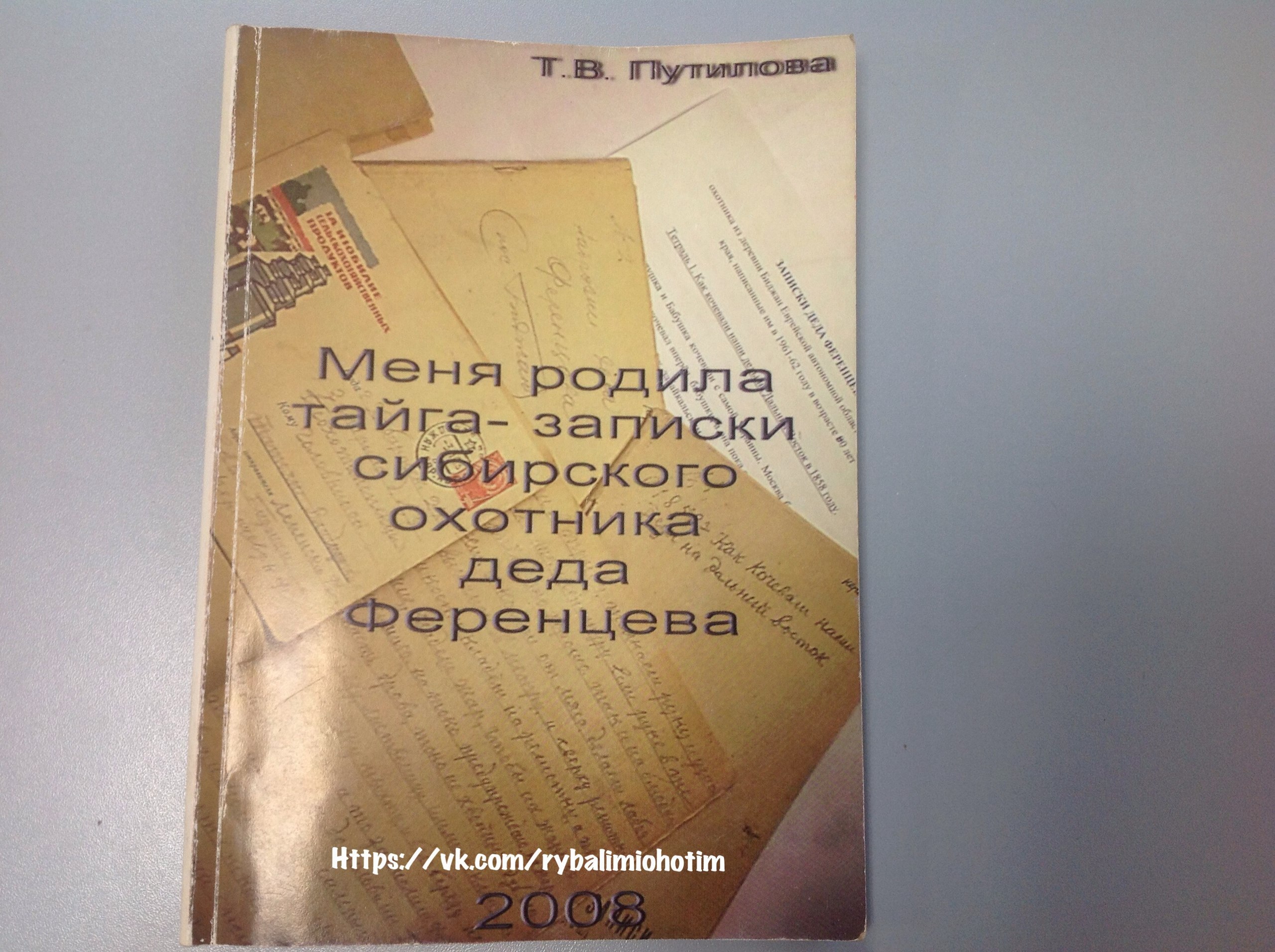Малоизвестные страницы истории заселения будущей ЕАО представлены в воспоминаниях казака и охотника «деда Ференцева»
Казак станицы Квашнинской (ныне с. Квашнино Ленинского района Еврейской автономной области) Кузьма Ференцев, родившийся в 1885 году и проживший около 80-ти лет, оставил уникальные охотничьи и рыбацкие воспоминания, о которых далеко не сразу узнали его потомки. Историю своего легендарного деда корр. РИА Биробиджан рассказал при состоявшейся не так давно встрече помощник атамана станичного округа «Михайло-Семеновское» по воспитательной работе, квашнинский хуторской атаман Виктор Ференцев.
По его словам, в Томске в 2008 году была издана книга воспоминаний деда Кузьмы. Вероятно, тираж был небольшой, может, еще и поэтому до родины соавтора (об авторстве чуть ниже) в бумажном виде она так и не дошла. Однако – спасибо прогрессу — увидеть и прочитать заметки удачливого охотника и рыбака теперь можно в интернете (отрывки ранее публиковались и в газете «Биробиджанская звезда»).
— Мы, потомки деда Кузьмы, долгое время ничего не знали ни о воспоминаниях, ни о книге. Можно сказать, случайно увидели в интернете. Теперь читаем и перечитываем, гордимся и удивляемся. Среди нас тоже есть и охотники, и рыбаки, но таких успехов, как он, конечно, никто уже не добивается, — с улыбкой поведал Виктор Ференцев.
История создания книги «Меня родила тайга – записки сибирского охотника деда Ференцева» такова. В начале 60-х годов прошлого века в Хабаровск по распределению прибыла из Иркутска молодой специалист-охотовед Татьяна Головкина. В одной из командировок она встретила в с. Биджан (это неподалеку от Квашнино) в ту пору уже пожилого дедушку, который удивил ее своими рассказами и своей поразительной памятью. «После беседы мы договорились, что он пишет свои воспоминания, а я когда-нибудь помогу книге родиться», — сообщает теперь уже Татьяна Путилова в предисловии к изданию, вышедшему под ее фамилией. Прошло более сорока лет, прежде чем это обещание ей удалось осуществить. При этом она постаралась полностью сохранить орфографию и стиль автора, которые тоже передают атмосферу того времени.
Начинаются воспоминания с описания воспоминаний бабушки и дедушки автора, которые были в числе первых казаков-переселенцев на Средний Амур и рассказывали пытливому внуку вечерами, лежа на палатях, о своих приключениях. На место будущей станицы Квашнино «выбросили», как пишет дед Кузьма, 13 семей. «Они работали день и ночь, а ночами клали костры и отгоняли хичных зверей» (знали бы эти звери, какой удачливый охотник вскоре появится на свет, наверняка, попрятались бы!).
— Отец купил ему ружье, когда он был еще восьмилетним мальчишкой! Сейчас, конечно, такое невозможно представить, но тогда время было другое, — восхищается дедом Кузьмой Виктор Ференцев.
Правда, из-за охоты мальчишка школу бросил, что сегодня тоже трудно представить. В книге это так описано: «Я проучился октябрь. Стали падать порошки, и я отбился от школы. Зайца было много, а фазана и косача очень много, и я каждый день приносил много этой дичи. Но зато я ночами читал всякие книги. Этим и дошел самоуком и мне мои родители это все простили».
Первую козу дед Кузьма добыл в 12 лет. А когда подрос, объездил всю округу, добираясь до верховьев реки Биджан и ее притоков. Бывал в районе нынешнего Биракана, исследовал тамошние знаменитые пещеры. Один ходил на барса, медведя, тигра. А в перерывах ловил рыбу, которой богаты были все водоемы в здешних местах. Кету тогда продавали на берегу по копейке за хвост. Рассказывает Ференцев, как сбежал от белогвардейцев, которые его чуть ли не в плен взяли. Но не менее, а, может, и более интересны бытовые сцены, описанные потомственным казаком. Женили деда Кузьму не по любви. Так тогда было принято. Вот как это описано:
«Когда мне исполнилось семнадцать лет, мать моя задумала женить не для меня, а для себя. Ей нужна была помощница по хозяйству. У меня была невеста тут же рядом. Я предупредил ее, но она и говорить не велит. Она была не по ней, но потом ошиблася.
Поехала она в село Венцелево и там нашла у Семена Былкова дочь. Он жил в избушке на курьих ножках, на подпорках. Он был горький пьяница. Всё стоял на перевозе, на реке Биджане по тракту из Венцелево в Квашнино. Я не раз давал ему рыбы, когда рыбачил. Он жил очень бедно, а дочерей у него было 6 штук. Вот мама и попала к ним сватать и высватала, что я ее не видел и не знал какая невеста. А она меня видела где-то мельком. Это было осенью. Когда пошли к попу, чтобы он обвенчал нас, но поп посмотрел в метрику и запротестовал нас венчать. Мне всего половина семнадцатого года. Тогда оставили до пасхи нашу свадьбу. Вот я все время и думал, какая же моя невеста? Если бы я посмотрел, то я бы отказался от нее, но я еще был неполным умом, а меня все уговаривали.
В феврале мать повезла подвенечный товар, и я поехал с ней посмотреть, что за невеста. Но оказалось напрасно. Невеста уехала с братом в Нагибово вывозить дрова на пристань для пароходства. И я вернулся не солоно хлебавши. Приближалась Пасха. Я к свадьбе набил дичи и рыбы. Пасха была поздно, дичи было достаточно. И вот пришло время, отец заплатил попу 50 рублей, лишь бы обвенчал на второй день Пасхи. Собрался наш поезд за невестой. В поезде было три брата, тысяцкий – это мой крестный, отцов брат и дружка. Три пары лошадей приехали на отцовскую квартиру. Время пришло, пошли на вечеринку к невесте. Заходим в хату, а там битком набито, все пришли смотреть на жениха. Я смотрю, в углу собралися девчата кучей. Я смотрю, какая же моя невеста? Все в лентах и смотрят на нас. Они тоже не знали меня, а нас четверо, все как один и все красотой — не выбросишь за борт! Пришло время, сели за стол, который был накрыт. Вот я смотрю, как заяц, и думаю, а вдруг ко мне подойдет беззубая старуха и я должен ее взять. Девки в углу все зашепталися. А тут на кухню занавеска. Смотрю, вышла из-за занавески моя невеста. У меня сердце екнуло. Она подходит к столу, а на подносе — шкалик водки и платочек. Я встал, выпил шкалик и взял платочек, а взамен положил свой. И она ушла. Она была, как говорят, аршин с шапкой».
Они все-таки поженились. Природа взяла свое, как объясняет дед Кузьма, и у них с «нелюбимой» поначалу невестой родилось три сына и дочь. Самый младший погиб на войне в 1943 году. Все дети пошли в отца, утверждает автор воспоминаний.
Прочитать книгу можно по адресу в интернете: https://vk.com/topic-49950613_31535664
#riabir #новости #ЕАО #Биробиджан #книга #память #история
«Кузьма Ференцев. Записки охотника»
6 апреля в нашей газете была опубликована часть воспоминаний Кузьмы Федоровича Ференцева, казака из станицы Квашнино нынешнего Ленинского района. Они были взяты из его книги «Меня родила тайга. Записки сибирского охотника деда Ференцева».
Она была издана в Нижнем Новгороде в 2008 году. Как указывается в предисловии к этому изданию, К.Ференцев начал профессионально охотиться с 1900 года в возрасте 15-ти лет и посвятил этому занятию целых полвека. А в 1961-1962 гг. по просьбе близко знавшей его охотоведа Ленинского района Татьяны Путиловой рассказал в автобиографической книге историю своей жизни. Тетради, в которых он изложил ее, хранились у Т.Путиловой долгие годы, и лишь почти полвека спустя жизнеописания старого казака увидели свет. А в нынешнем году текст книги случайно обнаружил в Интернете один из прямых потомков Кузьмы Федоровича Игорь Ференцев из села Ленинское. И уже при его помощи распечатка книги попала в нашу редакцию.
После опубликования в «Биробиджанской звезде» первой части воспоминаний старого казака несколько читателей обратилось с просьбой напечатать продолжение «Записок» Кузьмы Федоровича. Эти бесхитростные воспоминания уводят читателя в период более чем столетней давности. Любопытны не только описания охоты на диких промысловых животных, рек с отменной рыбалкой, девственной природы, которой еще тогда мало коснулась рука человека. Не менее интересны и рассказы из быта и культуры казаков. К примеру, традиция сватовства и женитьбы. Вот как это произошло у самого автора книги.
И пошли они под венец…
«Когда мне исполнилось семнадцать лет, мать моя задумала женить не для меня, а для себя. Ей нужна была помощница по хозяйству. Поехала она в село Венцелево и там нашла у Семена Былкова дочь. Приближалась Пасха. Собрался наш конный поезд за невестой. В поезде было три брата, мой крестный, отцов брат и дружка. Время пришло, поехали на вечеринку к невесте. Заходим в хату, а там битком набито, все пришли смотреть на жениха. Я смотрю, какая же моя невеста? Все в лентах, смотрят на нас. Они тоже не знали меня, а нас четверо, все как один и все красотой — не выбросишь за забор! Пришло время, сели за стол. Вот я сижу и думаю, а вдруг ко мне подойдет беззубая старуха. Девки в углу зашептались: из-за занавески вышла с подносом моя невеста. Она подходит к столу, а на подносе — шкалик водки и платочек. Я встал, выпил шкалик и взял платочек, а взамен положил свой. Назавтра пошли в церковь венчаться. Священник подошел к нам с венцами и меня спрашивает: «Ты желаешь взять ее?» Получив утвердительный ответ, быстро надел на нас венцы и повел кругом стола три раза — и кончено. Пришли в дом, запрягли лошадей и поехали. Приезжаем домой, а там народу полная ограда. Все ахнули — кого привез! Начали в нас бросать зерно. Отец с матерью подошли к нам благ ославить с хлебом и солью. Я немного откусил, потом невеста как отхватит от буханки, и тут все закричали: «Ого! Зубастая».
Я нажил с ней детей: дочь и три сына, и все в меня…»
«Уж вы сени, мои сени…»
Из многих сотен дней, проведенных Кузьмой Федоровичем на охоте, некоторые могли стать последними в его жизни. Попервоначалу, будучи начинающим следопытом, он подвергся нападению медведя. И если бы не его верный пес, жизнь юного охотника на этом бы и закончилась. А чего стоит охота на диких кабанов, когда взрослый секач может в мгновение ока уничтожить человека. Не раз его выслеживали тигры, превращая охотника в собственную добычу, и от гибели его спасали опять-таки верные собаки. Провалился Кузьма под лед на Биджане; там же, на стремнине, переворачивалась его оморочка. Спички у него хранились в фуражке на голове, разводили костер и грелись вместе с напарником.
А однажды пришла опасность оттуда, откуда меньше всего ожидалась. Повествует он об этом так. «На охоте мы стали заводить на гору лошадей, чтобы проехать хребтом. Я надел свой ергач (безрукавка из козьих шкур) — это по-гольдски, а по-нашему теплая одевка, и говорю своему напарнику, Лазарю: «Лазарь, ты надень одевку». А он говорит: «Нет! Не буду». А сам потный. Приехали на место, где был солонец. А он держит лошадей и говорит: «Что-то мне нехорошо». А я ему: «Вот говорил же, надень одевку…».
Когда приехали на место, я ему говорю: «Лазарь, ты готовь ужин, а я пойду вон на ту сопочку, может, кого увижу. А сам смотрю на него. Почему у него глаза мутные? Я ушел, закурил и думаю, почему он мне ничего не ответил? Я пошел обратно. Подхожу, а он стоит на одном месте. Я говорю: «Лазарь, ты не заболел?» А он хоть бы что. Уговариваю: «Лазарь, ложися». Он на меня смотрит и ничего не говорит. Парень здоровый, мне с ним не справиться. Но все-таки свалил его на постелю, что было склал на него и давай скорей разводить костер и кипятить чаю, хотел напоить, но не тут-то было! Он вышиб у меня чашку и смотрит на меня. Я схватил его и говорю: «Лазарь, Лазарь! Ложись!». А сам кладу огонь, чтобы его погреть, и присел отдохнуть и согреться. Я токо в рубашке, остальное все на него склал. Когда костер разгорелся, он как соскочит, кругом костра пошел с присядкой и припевать:
Уж вы сени, мои сени,
Сени новые, кленовые…
Когда стало светать, поймал лошадей, оседлал. Его лошадь взял в повод — и в сопку, а он сзади плачет и просит: «Не могу идти, меня колит и в груди не могу вздыхать». А я говорю: «Иди, а то пропадешь». Заехал на сопку, смотрю, поту нет на нем. Я — на другую сопку. Когда заехал, посмотрел — у него на лбу пот, как каралки. «Ну а теперь садися».
Приехали на табор и его затолкали в мой куль (спальный мешок из козьих шкур). Он уснул и спал полтора суток. Проснулся и спрашивает: «Как мы сюда попали?». И только когда вернулись домой, стали рассказывать, что было с нами, и все удивились. А Лазарь Федорович меня целует и говорит, что ничего не помнит, помнит токо, как козу взял и поехал…
А я ему: «А ну-ка давай, Лазарь, потанцуй и припой: «Сени, мои сени…». Трудно было описать, сколько смеху было».
Несколькими годами позже сам Кузьма оказался в подобной ситуации, когда охотился с несколькими товарищами в верхнем течении реки Кирга. Было это, видимо, в 1913 или 1914 гг. на станции Тихонькой (будущий Биробиджан), писал он, в то время было там всего семь жилых домов. Поднимаясь как-то по склону сопки, Кузьма сильно вспотел и, как он выразился, поймал ледяной ветерок. Почитаем воспоминания самого рассказчика: «Вскоре меня начало колотить в грудь так, что не могу идти, более десяти метров не смог пройти. Кое-как дошел до табора. Понял, что дело серьезное. Что делать? Я присоветовал товарищам в ведре варить овес, который был припасен для лошадей, и класть согревающие компрессы. Разделся до отказа и залез в свой куль. Они клали всю ночь эти компрессы, и мне к утру колотить стихло. К вечеру я чувствовал себя здоровым».
О землянике, «подозрительном озере» и Башмаке
Долгие годы охотничьего промысла запомнились Кузьме Федоровичу не только как череда эпизодов добычи дикого зверя. Интересны его воспоминания о некоторых местностях, которые навсегда врезались в его память. Приведем несколько отрывков из его книги. «По левую сторону реки Биджан, где впали речки Ашинга и Ашикан, где были золотые прииски, там можно все пахать, все сопочки и увалы. Там такая земля черная, что, наверное, зерновая культура не устоит. Токо можно сеять овощи — картофель, помидоры, огурцы, капусту, свеклу и все остальное.
Там, на каждой сопке и увале, родится земляника. Когда поспеет, так красиво. А до чего крупная!
Вот там очень много глухаря и тетерева. И такие у них толковища — только утром идет гул по сопочкам».
Далее охотник рассказывает, как он выразился, о «подозрительном озере». Оно было обнаружено им в нескольких километрах от впадения реки Дитур в Большой Таймень.
«Осенью заготавливали сено для охоты на зиму. Подъехали к одной гряде, а она как будто выше всех гряд. Смотрим, и озеро из-под гряды, и трава хорошая. Решили тут остановиться табором.
Подхожу к озеру, смотрю, что это такое? Сверху у озера как налитое горючее толстым слоем. Я палкой разгрузил, оно заплыло. Смерил глубину — более метра. Достал камни со дна, они были цветом красные и черные. К озеру нет никакого следу звериного, обнаружил, что нет никакого малька из рыбы. Даже нет вьюна и лягушки, и никакой букашки.
Сварили чаю и вылили его. Подвели лошадей напоить, но они понюхали и пить не стали. Я пошел выше озера, принес воды из болота, сварили чай — получился хороший. Повели туда лошадей — лошади стали пить хорошо…».
Скорее всего, охотники обнаружили случайно вышедшую из-под земли нефть. И в этом нет ничего необычного. Крупные запасы нефтегазового сырья, частично разведанные геологами на так называемой Димитровской платформе, захватывают в том числе и часть недр под Большим Тайменем и Дитуром.
В один из летних сезонов бывалый охотник был проводником в отряде военных топографов, работавших в междуречье Биджана и Помпеевки, а также в южных отрогах Малого Хингана. Начальник отряда Куликов высоко оценил исключительные знания проводником и природы, и ее законов. После окончания работ в знак благодарности подарил ему лошадь, пару валенок и 500 рублей.
В своих записках дед Ференцев рассказывает о обезлюдевших уже в то время нескольких стойбищ гольдов или чжурчжэней, населявших когда-то левый и правый берега Биджана. На его счету много открытых им пещер, в том числе уникальная из них в Свистун-горе. Там лабиринт карстового образования насквозь пронзает тело сопки, что создает тягу воздуха, отчего круглогодично в пещере не умолкает гул. Отсюда и название сопки — Свистун.
Память о Кузьме Федоровиче Ференцеве сохранилась в названной книжке «записок» и в фамилиях потомков большого казачьего рода Ференцевых, которые живут сейчас в некоторых селах Ленинского района и Биробиджане. Мало кто знает, но и село Башмак в Ленинском районе имеет прямое отношение к знаменитому охотнику. В 20-х годах Ференцев переехал с группой земляков на пустошь, где были хорошие земли. Когда начали строиться, на собрании переселенцев решили дать название новому селу. Кузьма Федорович предложил дать ему имя — Башмак. Все сразу согласились. Башмак — это по-гольдски, а по-русски — ловушка.
Подготовил Виктор Горелов