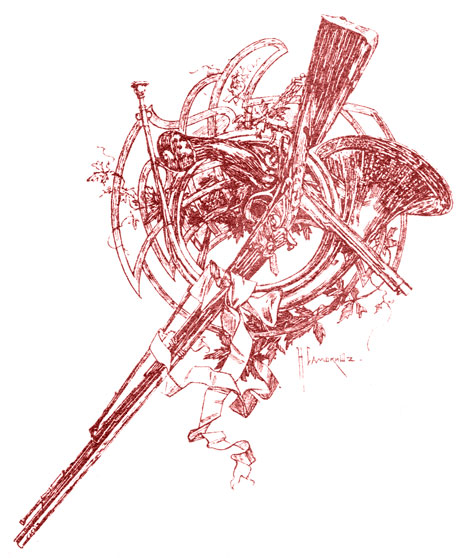«Охота питала и литературу». И.С. Тургенев и его литературные последователи об особенностях национальной охоты.
Тема охоты как часть темы природы, темы взаимодействия человека и природы может быть открыта известными словами И. Тургенева из заметки «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии С. А-ва» (1852): «Вообще охота свойственна русскому человеку: дайте мужику ружьё, хоть верёвками связанное, да горсточку пороху, и пойдёт он бродить, в одних лаптишках, по болотам да по лесам, с утра до вечера» 1 .
За последние годы в литературоведении появилось несколько работ, посвященных теме охоты, в том числе статья Маргариты Одесской «Ружьё и лира». Охотничий рассказ в русской литературе XIX в.». «С конца 40-х годов, – пишет М. Одесская, – охотничья литература начинает взаимодействовать с «высокой» в творчестве С. Аксакова прежде всего. Но подлинная история охотничьей темы в русской литературе начинает складываться с «Записок охотника» Тургенева: «Показав жизнь русской деревни с позиции свободного от мирской суеты странствующего охотника-дворянина, Тургенев «специальное» заменил универсальным, «охотничье», этнографическое – общечеловеческим, художественным» 2 .
Александр Сегень в статье «Национальные особенности тургеневской охоты» неискушённому читателю «Записок охотника», который изумлённо спрашивает «Где же здесь охота?», отвечает: «…из рассказа в рассказ охота даётся лишь несколькими штришками, для затравочки» 3 . Несерьёзное – «штришками» и «для затравочки» – лишь первоначально кажется неуважительным по отношению к классику, на самом деле ироническая интонация проскальзывает и у самого Тургенева: когда рассказчик чуть не подстрелил вместо вальдшнепа «молодую девушку» («Ермолай подбежал ко мне. «Что вы здесь стреляете: здесь живёт помещик». – «Мой сосед Радилов»; III , 50), и когда чуть не утонул вместе с товарищами, сев в заведомо дырявую лодку («Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами». – «Льгов»; III , 82), – Тургенев иронизирует и над охотниками вообще, когда в известной характеристике говорит, что познакомился с Полутыкиным, «страстным охотником и, следовательно, отличным человеком» ( III , 8). Страстным охотником, как известно, был и сам Тургенев. Е.Н. Конусевич, двоюродная сестра писателя вспоминала: «Никто из охотников не мог с ним состязаться на охоте, он стрелял без промаха при его замечательных собаках, и потом он по три дня ходил, домой не возвращался, холодную провизию брал с собой» 4 .
Следует упомянуть и недавнюю статью Ольги Земляной «И.С. Тургенев об особенностях национальной охоты». Пафос статьи кроется во фразе «Мы в этом мире, по большому счёту, охотники за тайной смысла жизни…» 5 . Особенности национальной охоты в России заключаются, по мысли автора, в поиске не зверя – в поиске вечных истин.
То, что рассказчик в «Записках» – охотник, играет принципиально важную роль. В статье «Столетие «Записок охотника» (1952) Б. Зайцев писал: «Охота сводила Тургенева с очень различными людьми: от помещиков до простых охотников, неустроенных, бездомных бродяг – эти особенно его привлекали. Сам он был барин, но странный . При всём блеске, культуре, утончённости и западничестве своём всё-таки это русский скиталец , несмотря ни на какие Спасские. Западно-мещанского в нём не было, он не «буржуа», а дальний родственник, каким-то концом души своей брат бездомным Калинычам, Ермолаям, Сучкам, Касьянам, певцам Яковам и другим» 6 . [Подчёркнуто нами – Н.К.].
Подобную мысль высказывает и Ю.В. Лебедев: «На этой общей для барина и мужика основе [«охотничьей страсти» – Н.К.] и завязывается в книге Тургенева особый характер человеческих взаимоотношений, люди, с которыми встречается в своих охотничьих странствиях рассказчик, щедро с ним откровенны» 7 .
М. Одесская утверждает, что «гуманистическая антиохотничья тенденция» проявилась в литературе начиная с 80-х годов XIX столетия 8 . Но ещё в «Записках охотника» охоту осуждают Касьян («Касьян с Красивой Мечи») и Лукерья («Живые мощи»).
В «Жизни Тургенева» (1929-1931) Зайцев требовательно спрашивал: «Почему занимались стрельбой мирных, любовью влекомых птиц непротивленец Толстой и отдавший любви жизнь Тургенев – этого понять нельзя» ( V , 159). В то же время, выше, в главе «Ссылка и воля», Зайцев отмечал и положительное значение охоты в жизни Тургенева: «Первое лето и осень целиком ушли на охоту. Тургенев неутомим в своём занятии, в своей страсти – эта страсть прошла чрез всю его жизнь, охота связала его с Виардо, охота питала и литературу » ( V , 87). [Подчёркнуто нами – Н.К.].
Зайцев охотничью страсть считал греховной. В статье «Столетие «Записок охотника» писал: «Кто охотою занимался, знает эту страсть, в корне своей тёмную. Она, конечно, греховна . Тургенев так до конца дней своих от этой страсти и не освободился». И добавляет: «Но кто, кроме святых, от страстей освобождался» ( V , 484).
Сам Зайцев, хоть святым и не был, от охотничьей страсти освободился. О детской мечте об охоте он поведал в первой части («Заря», 1934-1936) автобиографической тетралогии «Путешествие Глеба». Всё началось с осуществлённой мечты – ружья; оно было «желанно-недосягаемое, мучительное и сладостное» ( IV , 41). Потом была убитая белочка, охота на уток, наконец Глеб застрелил лося… «Сладостное» ощущение победы, даже подвига, развивается параллельно с темой осуждения охоты. Отец, «страстный охотник», «об охоте говорит так: «Это, разумеется, пережиток варварства» ( IV , 41), но охоты не бросал; сестра Лиза осуждает Глеба за погибшую белочку. Сам мальчик ощущает некоторое разочарование на утиной охоте: «…пороховой дым, разгорячённые лица. Груда уток настрелянных, окровавленный пух… никаких подвигов ! Убивали в камышах плохо летающих утят – это больше похоже на бойню ( IV , 104). Подчёркнутое нами «никаких подвигов» – принадлежит маленькому Глебу, а сравнение с бойней, – думается, уже взрослому человеку, автору. А в сцене охоты на лося, комментирующий голос автора, заключённый в скобки, звучит открыто: «Вылез он из саней с чувством Наполеона после Аустерлица. Дома восторг был общий. Даже Лизу он захватил. Тут уж не белочка – огромный зверь, страшный, которого так геройски уложил брат. (Это была лосиха со своим лосёнком. Убивая её, Глеб совершал преступление даже против законов охотничьих)» ( IV , 151).
В рассказах Б. Зайцева отразилась эволюция его отношения к охоте. В раннем рассказе «Мгла» (1904) человеческая страсть к охоте победна – убивают волка. «Что-то тёмное, мрачно сладострастное подкатывает к сердцу» ( VIII , 21), – говорит рассказчик о своём состоянии перед охотой. «Волка трогали, ахали, щупали; только старая, почти лысая кухарка Аграфена всматривалась в него угрюмо и молчаливо». После удачной охоты рассказчика настигает состояние апатии: «я не испытывал ни радости, ни жалости, ни страсти». Природа предстаёт в финале рассказа чернеющей, «как непереходимая бездна, бесконечная бушующая мгла» ( VIII , 24), враждебная человеку.
В рассказах «Волки» и «Мгла» тема «человек и природа», и её часть – тема охоты – решаются трагически, как тема отчуждения. Но трагический пессимизм в решении темы «человек и природа» преодолевается Зайцевым (рассказ «Полковник Розов», 1907). Охоты нет: охота срывается, хотя рассказчик приезжает в деревню именно поохотиться. Но он не жалеет – так хорош мир вокруг, что достоин ружейного салюта: «Ах, глупо несколько, но хорошо, как хорошо, забежать вглубь, в лес, и палить – раз, раз, так, на воздух, с добрыми намереньями, в честь неба, солнца, полковника, Джона!» (1, 74).
Страсть к охоте уходит у Зайцева совсем, уступая место постижению тайны природы, постижению единения человека и природы, человека и божьего мира вначале в духе В. Соловьёва, позже – в духе христианства. Таковы представления Б.К. Зайцева об особенностях национальной охоты.
Если был в русской литературе ХХ века писатель, преданный охоте, если кто создавал охотничьи рассказы в традициях тургеневских «Записок», так это, в первую очередь, Юрий Казаков. Он описал охоту и рыбалку как охотник и рыбак – любитель, но объездив Север как журналист и писатель, Казаков изучил и художественно осмыслил рыбалку как путину, а охоту как промысел, чего, конечно, в аксаковско-тургеневской традиции не было. Писатель выразил победный восторг от ощущения: «…я был один на свете, и вся утка шла на меня» 9 . И всё-таки для Казакова в охоте главное – не добыча , и в этом он в тургеневской линии осмысления национальных особенностей охоты.
Есть в рассказе «Белуха»(1963-1972) эпизод: товарищи рассказчика ловят рыбу. «Решено было, как в сказке, в третий раз забросить невод, а я задумал уловлять души человеческие и побрёл потихоньку к избе» (368). В подчёркнутых нами словах – ключ к пониманию Казаковым национальных особенностей охоты. Очень уж хотелось автору поближе познакомиться с хозяином избы: вот уж 15 лет живёт тот с семьёй на берегу океана, в страшном отдалении от другого жилья – как можно так жить?
Не успел поговорить с хозяином – белуха пошла… «А пути её загадочны ! Никто не знает, где она, в каких таинственных водах появляется, почему так упорно и постоянно идёт Ледовитым океаном…» (364). [Подчёркнуто нами. – Н.К.]. В очерке-рассказе (а именно так исследователи определяют жанр произведения, указывая на его генезис – «Записки охотника») прямо подчёркивается, что северяне – зверобои много-много лет добывают белух и других зверей на Севере, а природа – загадочна, таинственна, и часто – враждебна по отношению к человеку. Белуха пошла, и Казаков подробно описывает охоту – промысел-битву. Но главная его задача – «уловлять души человеческие». Он и захвачен горячкою добычи, как и все на шхуне, и всё-таки остаётся только наблюдателем, ужасаясь кровавой бойне, потому что, если белуха пошла, то «стрельба, как на войне!», и «через час все белухи были убиты», тела их обработаны, шхуна чисто вымыта… «…а на мачте в бочке сидел вахтенный с биноклем, всматриваясь в прибрежные воды, чтобы в какой-то миг огласить нашу дремлющую шхуну воплем: «Белуха идёт. » (386). И всё начнётся сначала, и снова захочется автору положить винтовку и начать молиться: «Господи, думал я, отвернули бы они в море! Испортились бы наши моторы! И что стоит этим прекрасным существам, даже войдя в загон, перевалить через верхний ряд сетей, через поплавки, и уйти дальше, и продолжать свою непостижимую, неподвластную человеку жизнь!» (383). [Подчёркнуто нами – Н.К.].
Тема противостояния человека и природы, достигающая вершин трагедии, выражена уже в эпиграфе к произведению – в стихах Евгения Евтушенко:
| Белуха в море зверобою Кричала путаясь в сетях, Фонтаном крови, всей собою: «Зачем ты так? Зачем ты так?» |