Тактика свободной охоты люфтваффе
Александр Покрышкин — гений воздушной войны. Психология героизма (фрагменты из книги)
Тактика «свободной охоты» немецких асов. Часть 5
Вне сомнения, что есть огромная разница между победами Покрышкина и сравнительно лёгкими победами немецких «охотников» в небе. Покрышкин, используя своё мастерство, находясь в группе сопровождения, яростно отражал непрерывные атаки немецких «охотников», устремляющихся на растянувшиеся в строю и возвращавшиеся на свои аэродромы Су-2, «илы» и «пешки». Немецкие лётчики-истребители атаковали и сбивали не ожидающие нападения, отставшие от группы, слабозащищённые советские бомбардировщики и штурмовики.
Каждый воздушный ас (в том числе Покрышкин и Липферт) — отработал свои приёмы атаки, а также приемы прикрытия своих бомбардировщиков от атак истребителей противника. Взяв за основу типичные приёмы атаки этих двух выдающихся асов, можно на компьютере воссоздать типичную боевую ситуацию в небе. Она заключается в следующем. Советские истребители сопровождают бомбардировщики, летящие к вражеским позициям. Со стороны солнца их подстерегают две пары немецких свободных охотников.
Компьютерное моделирование позволяет рассмотреть многочисленные варианты боя. Для анализа неравноценности воздушных побед у нас есть мемуары Покрышкина «Небо войны» и «Познать себя в бою» и мемуары Липферта «Дневник гауптмана люфтваффе». Изучая такой богатейший материал и, используя описания воздушных поединков, в которых участвовали сами авторы мемуаров, мы можем объективно оценить – насколько труднее было сбить Покрышкину в групповом бою самолёт противника, по сравнению с победой Липферта над одиночным, лишенным помощи прикрытия — советским бомбардировщиком или штурмовиком.
Вводя средний коэффициент трудности и ценности воздушной победы в общее количество воздушных побед, достигнутых каждым асом, можно скорректировать личный суммарный вклад каждого пилота в общее дело войны, основываясь только на числе сбитых и подбитых ими самолётов. Очевидно, что разница между ценностью побед немецких асов при «свободной охоте» (они летали на цель, сопровождаемые многочисленными группами прикрытия) и ценностью побед советских лётчиков при отражении атак немецких истребителей будет колоссальная.
Уже сейчас невооружённым глазом видно, что одиночные, тяжёлые, неманевренные и не имеющие сзади мощной огневой защиты штурмовики неизменно становились лёгкой добычей «охотников» люфтваффе. Фактически, почти любые попытки продолжать лететь на свой аэродром после бомбометания у одиночек П-2 и Ил-2 при непрерывных атаках немецких «охотников» были обречены, несмотря высокое мастерство лётчиков «пешек» и «илов» и мужество их бортовых стрелков. Бортовое вооружение, имевшее своей функцией оборону штурмовика со стороны хвоста, состояло из 12.7-мм пулемёта УБТ. Но тесная кабина не позволяла бортовому стрелку быстро менять положение пулемёта, следя за скоростным перемещением атакующего пикирующего немецкого истребителя. У этого пулемёта не хватало достаточно широких секторов обстрела. Нижнюю полусферу стрелок вообще не мог оборонять. Все эти недостатки обороны сзади хорошо знали немецкие охотники и выходили на атаку Ил-2 в секторах, где бортовой стрелок не мог вести прицельный ответный огонь. Атака «илов» «мессершмиттами» производилась снизу, где он был полностью беззащитен. Смирнов отмечает к тому же ещё один факт, существенно влияющий на обороноспособность штурмовиков. Недолгой была подготовка бортовых стрелков. «Первое время, – вспоминает ветеран 210-го штурмового авиаполка В.С. Фролов, – в полки прибывали абсолютно не подготовленные ребята, которых сажали за пулемёты и отправляли в боевой полёт. Многие из них не выдерживали резких манёвров штурмовика во время полёта» (Цит. по 24, с. 303).
Успеть произвести точный огонь по «мессершмитту» в условиях, когда оба объекта движутся в воздухе с разными скоростями и меняют своё положение друг относительно друга, и опытному и тем более молодому неопытному бортовому стрелку было исключительно сложно. Ошибка тотчас же наказывалась смертью, потому что немецкий лётчик стремился расстрелять бортового стрелка, чтобы потом с большой долей вероятности добить одиночный штурмовик.
Неравенство огня между немецким истребителем, атакующим одиночный советский бомбардировщик или штурмовик, также лежало в основе формулы (***) максимума побед при минимуме риска. Поэтому, когда немецкий истребитель атаковал Ил-2 и Пе-2 слишком неравными были их огневые, скоростные и маневренные силы. В 80% случаев одиночные «пешки» и илы» становились лёгкой добычей карауливших их немецких «охотников». Поэтому не удивительно, что личный счёт сбитых самолётов противника у немецких асов рос довольно быстро. Но в любом явлении всегда есть противоположная сторона. И у медали есть две стороны, и одна из них оборотная. Несмотря на то, что «свободная охота» самый эффективный способ уничтожения как можно большего числа вражеских самолётов, эта тактика отвлекала лучшие истребительные силы люфтваффе от групповых боёв, где часто решалась судьба сражений и в воздухе, и на земле.
На место сбитых одиночек после 1943 года в воздушные армии приходили новые молодые лётчики в ещё большем количестве, чтобы летать на более совершенных истребителях: «мигах», «яках», «лаггах», американских «аэрокобрах». Потери в воздушной войне в ВВС восстанавливались быстрее, чем они росли. Авиазаводы работали на полную мощность. По данным А. Смирнова, в 1941 году воздушные армии СССР насчитывали 10743 боевых самолёта, а Германия и её союзники имели 4688 самолёта, в 1942 году в советских воздушных армиях было 8800 самолётов, а Германия и её союзники имели 3500 боевых самолёта, в 1943 соотношение уже было таким: у ВВС около 13000 боевых самолётов, а у люфтваффе 3000 боевых самолётов, и в 1944 году более чем четырёхкратный перевес у СССР сохранился: 13400 против 3100 боевых самолётов, но в 1945 перевес у СССР значительно возрос до десятикратного превосходства 21500 боевых самолётов против 2000 боевых самолётов у люфтваффе.
Один из выводов, который логически вытекает из этих данных, будет достаточно неожиданным. Воздушная война в русле акцента люфтваффе на тактику «свободной охоты», начиная с 1943 года на Восточном фронте принесла эффект напрасно растраченных усилий у лучших асов люфтваффе. В этом эффекте проявился незамеченный многими исследователями парадокс тактики «свободной охоты», которая принесла асам люфтваффе невиданную мировую славу, но одновременно привела к потере ощутимого господства в воздухе в воздушной войне против ВВС, которое было достигнуто люфтваффе в первой половине войны.
Общая стратегия Покрышкина воздушной войны в небе на уничтожение воздушных сил врага коренным образом отличалась от стратегии немецких асов-охотников. Покрышкин, безусловно, отдавал дань импровизационному началу в тактике «свободной охоты», понимая, что это только элемент в воздушной войне. Он отмечал, что при этой тактике нужно быть большим мастером, но сам придерживался другого – целостного подхода к воздушным сражениям. В своём подходе Покрышкин настолько, насколько ему позволяла боевая ситуация во всех поединках, стремился уничтожать наиболее сильных пилотов люфтваффе, а вырастить нового аса было намного сложнее, чем посадить на «миг» или «як» молодого, рвущегося в бой лётчика, прошедшего кратковременную дофронтовую подготовку. Эта стратегия уничтожения элиты люфтваффе в групповых сражениях шаг за шагом начинала приносить свои плоды в небе Кубани и затем в 1944 году в воздушной войне в Румынии, где воевал полк и затем дивизия Покрышкина. Опыт Покрышкина перенимали другие авиационные подразделения. Именно в групповых боях и гибли прославленные немецкие асы.
И после 1944 года тактика, когда было понятно, что война против СССР проиграна, не изменяя выработанных стереотипов, пилоты люфтваффе по-прежнему продолжали свою бесконечную и в каком-то смысле почти бесплодную гонку за одиночными самолётами противника. И снова охотники видели перед собой в небе ещё больше одиночек – такую желанную добычу – летевших без прикрытия истребителями или отстающих и замыкающих группу отбомбившихся «пешек» и «илов». По словам Липферта, когда небо кишит одиночными самолётами – оно было как Эльдорадо для асов люфтваффе.
Многие историки авиации, изучающие войну в воздухе на Восточном фронте, отмечают такой факт, что после середины 1943 года количество советских самолётов в воздухе резко увеличилось. И среди этих самолётов было много одиночек, которые были удобными объектами для атаки охотников за ними. Каковы были причины этой ситуации в небе? Слабая организация боевых действий; нечётко выполненные развороты бомбардировщиков и штурмовиков после бомбёжек; зенитные попадания в бомбардировщик, после которого тот мог лететь, но неизбежно отставал от группы; одиночные разведчики и полёты для связи; рассеянное патрулирование, где кто-то неопытный сбивался с курса. И все такие самолёты и пары самолётов караулили немецкие асы, патрулирующие свой район в небе войны. Но когда те же асы вылетали в группе сопровождения, они встречали мощное сопротивление со стороны научившихся воевать советских лётчиков.
И в своих мемуарах Липферт рассказывает о таком эпизоде воздушной войны в небе Крыма. Однажды он с другими лётчиками в составе 15 «юнкерсов» и 6 истребителей, держа путь к Сивашу, наткнулся в воздухе на русскую группу из 20 истребителей и 30 штурмовиков. Каждая группа, отбомбившись, выполнила свою задачу, но на обратном пути обе группы встретились в воздухе снова. Завязался тяжёлый воздушный бой. «Мы вступили в бой с Яками и Лаггами и попытались осложнить им жизнь, – пишет в своём дневнике Липферт, – это действительно была большая драка! В ней приходилось заботиться только о себе, забыв об окружающих. Каждый должен был блюсти лишь собственные интересы. Ведомые получили приказ летать самостоятельно. Был огромный риск столкновения с другим самолётом или тарана. Эта дерущаяся толпа была слишком большой для меня. Я покачал крыльями, чтобы позвать другой самолёт – жёлтую тройку, и покинул место боя настолько быстро, насколько это было возможно» (13, с. 127).
В этом коротком описании боя есть два момента, на которые нельзя не обратить внимания. Первый момент. Липферт откровенно признаётся, что в этом сложном групповом сражении каждый должен был заботиться только о себе, и ведомые не обязаны были прикрывать своего ведущего. Такое поведение группы немецких лётчиков, с точки зрения теории психологии масс, Фрейд рассматривает как паническое, ибо существующая опасность иррационально преувеличивается. Сущность панического состояния массы и толкование этого состояния Фрейдом описывались выше. Можно ли только воздействием паники в этом групповом бою объяснить приказ ведущего немецкой группы – каждый лётчик-истребитель должен действовать самостоятельно? Такой приказ полностью противоречит тому, что Покрышкин в своей тактике считал главным условием ведения боя и дисциплиной боя. Два основных принципа Покрышкина успешного воздушного боя – взаимная выручка, ведомый ни при каких условиях не должен покидать своего ведущего, охраняя его от атаки сзади. В групповом бою ведущий не успевает часто смотреть назад, так как тогда его сосредоточенность на цели будет неизбежно рассеиваться. Покрышкин категорически запрещал самостоятельно выходить из боя, во-первых, потому что выходящий мог тотчас же подвергнуться атаке противника и погибнуть без прикрытия товарищей, во-вторых, оставляя своих товарищей, лётчик ставит их в трудное положение.
При выходе пикированием из боя Липферту повезло, потому что русские истребители не атаковали его, поскольку были увлечены борьбой с немецкими «юнкерсами» и «мессершмиттами». Выйдя из боя, Липферт обнаружил в воздухе одинокого штурмовика, который, отбомбившись, возвращался домой. Липферт атаковал советский штурмовик и сбил его, но сам получил два тяжелых удара в маслопровод или от своих зениток, или от русского истребителя. Немецкий ас с большим трудом дотянул до своего аэродрома.
Липферт искренне рассказывает, что в этом бою каждый должен был сам защищать себя и сам заботиться о своих интересах. Анализируя боевую деятельность самых результативных немецких асов, мы видим, что огромный счёт сбитых ими самолётов противника являлся достижением их тактики «свободной охоты». Каждый немецкий ас-охотник специализировался на своих приёмах атаки. Липферт рассказывает, какую тактику «свободной охоты» в районе над Днепром применял лейтенант Облезер из III/JG52. «Каждый день он сбивал по два вражеских самолёта, применяя особую тактику. Он поднимался на 7000 метров и ждал, пока не увидит внизу под собой русских. Тогда он пикировал сверху, словно молния, сбивал одного из врагов, а затем, используя свою скорость, снова уходил вверх и занимал безопасную позицию. Я пробовал копировать эту тактику, но так и не смог приобрести необходимый навык. На такой высокой скорости я не мог вести прицельный огонь, чтобы сбить самолёт противника. Я был больше истребителем ближнего боя. По этой причине русские асы – истребители ближнего боя – постоянно докучали мне. Однако они не могли меня сбить, поскольку мне удалось ускользнуть в критический момент» (13, с. 71).
Если в небе не было подходящих для атаки советских самолётов, то такой боевой вылет для немецкого аса-охотника считался неудачным. В огромных просторах неба летели каждый по своим нуждам одиночные советские бомбардировщики и штурмовики, одиночные и в паре советские истребители. Множество различных причин приводило к тому, что кто-то один возвращался на свой аэродром, кто-то летел в разведку, кто-то отстал от группы. Не зря Покрышкин предупреждал о том, что одиночка выходящий из боя – жертва противника. Когда небо было пусто немецкие асы, специализирующиеся на тактике «свободной охоты», не проявляли на земле нетерпеливого предвкушения охоты в небе. Обычный охотничий азарт замирал до того времени, когда благоприятный случай давал ему повод разгореться.
Все права защищены. Ни одна из частей настоящих произведений не может быть размещена и воспроизведена без предварительного согласования с авторами.
Тактика свободной охоты люфтваффе
Александр Покрышкин — гений воздушной войны. Психология героизма (фрагменты из книги)
Тактика «свободной охоты» немецких асов. Часть 1
Одним достаётся мировая слава после проигранной войны, а другим – безвестная смерть в небе Родины. Они ещё не видят друг друга, но беспощадная смерть уже караулит более слабого, защитить и прикрыть его некому, небо пустынно, аэродром далёк. Бомбёжка, шквальный огонь зениток, снаряд повредил крыло, но лететь можно, скорость ниже обычной, и он давно отстал, свои ушли вперёд. Воля ещё есть, но и она не всесильна. Одиночество в зияющей пустоте, только непрерывный гул мотора напоминает ему, что штурмовик полон сил, и он летит домой. Полчаса… как мало и как это много… Всего лишь полчаса, и линия фронта будет позади, всего полчаса, как мгновенен этот отрезок времени в мирной жизни, разве может что-нибудь произойти за полчаса? Но сейчас небо враждебно, и потому так медленно тянется время. Как медленно проплывают внизу поля. Он по-прежнему один в пустом небе. Какая огромная голубая бездна с небольшими кучками белоснежных облачков. Красота лазури завораживает, тело в кабине неподвижно, но он чувствует каждый мускул, взгляд напряжён (как хочется жить, ведь ему ещё только двадцать один год). Ещё два часа назад он был жизнерадостен, шутил и смеялся. Но тревога уже расползается по сердцу, он гонит её прочь, но она цепко сидит в нём. Оглядывается назад, а там, в безграничной высоте враждебное солнце слепит глаза. Это солнце, которое он так любил в детстве. Опять смотрит вперёд, привычно работает мотор, ещё двадцать минут полёта, ещё пятнадцать, десять! Один летит к друзьям, к радости общения, надеясь успеть на ужин, не надолго расслабиться, вздохнуть чистый, прохладный воздух полной грудью и не вспоминать об этих пятнадцати — десяти минутах, которые ему осталось, чтобы дотянуть до линии фронта под защиту своих зениток.
Но на войне свой мрачный бал правит узаконенное убийство. Если бы он знал, что ещё двадцать минут назад его засекли наземные станции врага. И из небесной засады к нему на скорости более 600 км/час, снижаясь с высоты, мчится пара «мессершмиттов» и в их пушках, и пулемётах затаилась тысячеликая смерть. Вот она протянула к самолёту свою костлявую лапу и ненасытная жадно ищет в небе свою жертву. И тотчас самолёт сотрясают взрывы, сильные удары по корпусу, пилот отчаянно бросает штурмовик в сторону, огненные трассы проносятся мимо, он даёт крен и, полого снижаясь, уходит под трассу, но враг как бульдог мёртвой хваткой уже вцепился в него, снова взрывы сотрясают штурмовик, задымил левый мотор. Машину поражает сильная вибрация, но штурмовик упорно летит вперёд. Лётчик оглянулся и видит в кабине – совсем близко – всего в 50-ти метрах напряжённое и сосредоточенное лицо своего врага, и они оба знают, что сейчас наступит финал трагедии для одного и торжество победы для другого, чудо в небе войны спасает один раз на тысячу случаев. Пламя вихрем вырывается из левого мотора, и чёрный густой шлейф тянется за медленно снижающимся к земле одиночным штурмовиком. Кабина наполняется дымом. Дышать становится трудно. Прыгать с парашютом поздно, внизу враги внимательно и торжествующе следят за исходом расстрела в небе. Враг, взяв превышение и опустив нос истребителя, теперь бьёт в упор по правому мотору, взрыв сотрясает воздух, пламя взметается ввысь, обломки разлетаются во все стороны. Один исчез навсегда, а другой живой в кабине в восторге кричит «Abschuss!». Рация включена, и этот победоносный крик охотника, ревностно слышат другие охотники в небе, а наземные станции фиксируют ещё одну победу.
Картина смерти и жизни трагическая и страшная.
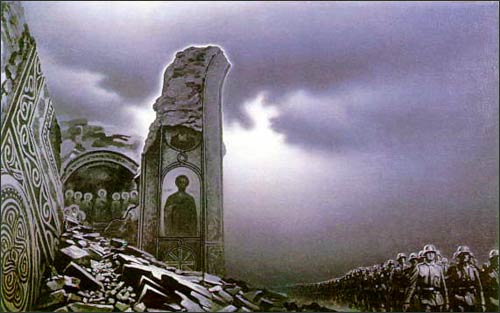
Но реальность во стократ красноречивее и мрачнее воображения. Вот перед нами описание фрагмента войны в небе из книги Покрышкина «Познать себя в бою»: «В первый вылет на сопровождение группы Пе-2 взлетели тройкой. У ведущего второй пары отказала матчасть. В этом полёте нам удалось отразить все атаки «мессершмиттов», но ведение боя усложнял идущий ниже своей группы одиночный Пе-2, повреждённый зениткой.
На обратном маршруте, уже подходя к Новороссийску, увидел, как в хвост ему заходят два «Фокке-Вульфа -190». Я и мой ведомый Иван Савин, пикированием свалились на них. Атака была молниеносной. Мы сразу же сбили обоих. По-видимому, вражеские пилоты не заметили, как сами превратились в мишень. После этого я горкой выскочил к группе наших бомбардировщиков, а Савин остался прикрывать подбитый Пе-2. Тот шёл на аэродром к Геленджику. Обеспечив безопасную посадку бомбардировщика, Савин, несмотря на мое строгое распоряжение сесть на этом аэродроме, решил нас догнать.
Но практикой десятки раз подтверждено: одиночный самолёт – верная цель. К несчастью, так и получилось. Савина вскоре атаковала пара «охотников» и сбила в предгорьях севернее Геленджика. Так мы потеряли ещё одного очень способного молодого лётчика» (17, с. 275). За непослушание Покрышкин строго наказывал, но война наказывает страшнее. Какая сила заставила молодого пилота не выполнить распоряжение командира? Храбр и отважен был Савин, инициативен, но и инициатива может погубить того, кто не знает её пределы, неумолимы и жестоки принципы воздушной войны. Храбрость до безрассудства, но и безрассудство имеет свои пределы. Чтобы выжить, инстинктивная потребность в безопасности через разум сознания должна стоять на страже, Савина подвёл его инстинкт самосохранения. Значит, была сила сильнее этого всемогущего инстинкта. Страстно хотел Савин быть со всеми. Нужна была ещё доля везения. Её не оказалось, так погиб этот подающий большие надежды лётчик. Переоценил ли он свои силы? Или летел на помощь к своей группе, не зная всех тонкостей беспощадной и коварной «свободной охоты»?
Тактика «свободной охоты» истребительной авиации люфтваффе существенным образом и концептуально отличалась от тактики истребительной авиации ВВС. В «свободной охоте» пара, звено или эскадрилья немецких истребителей патрулировали в заданном районе и вели активный поиск самолётов противника. Одним из главных базовых противоречий тактики «свободной охоты» является существование в ней разнонаправленных сил. Первой – является непрерывное стремление немецких асов атаковать противника, и потому, как следствие, непрерывный поиск врага в воздухе. Атака, как и любое наступление на войне, всегда сопряжена с существенной долей риска. Вторая сила в тактике люфтваффе «свободной охоты» – стремление у атакующего минимизировать риск до крайнего предела.
Главный принцип «свободной охоты» атаковать в большинстве случаев максимально беззащитные, лишенные помощи прикрытия вражеские самолёты в воздухе, которые не могут — дать мощный отпор, уходя от огня горкой и боевым разворотом, а затем перейти к контратаке. Этот главный парадокс тактики «свободной охоты» внезапных атакующих действий с одновременной минимизацией риска быть самому сбитым, принёс немецким асам внушительные счета сбитых и подбитых самолётов противника.
Только самые сильные пилоты-истребители люфтваффе становились «охотниками» в небе за вражескими самолётами. Лучшие асы люфтваффе обладали быстрой реакцией, были агрессивны в атаке и в совершенстве умели управлять своими истребителями. Они были меткими стрелками – снайперами в воздухе, могли выполнять самые сложные фигуры высшего пилотажа. Поскольку тактика «свободной охоты» предусматривала и была направлена на поиск и уничтожение слабо защищённых самолётов противника, риск быть сбитым у немецкого охотника-аса был незначителен, поэтому на «охоту» выходили малым числом истребителей, чаще парой – ведущий и ведомый, иногда двумя парами – четвёркой. «Охотникам» находить цели в небе помогали наземные станций наведения. Если немецким лётчикам сообщали, что в данном районе летит одиночный бомбардировщик или истребитель противника, то они, не теряя времени, устремлялись в этот район. Как только они обнаруживали свою добычу, занимали выгодную позицию, выжидали удобный момент и затем внезапно атаковали советский самолёт, лётчик которого часто и не подозревал о грозившей ему смертельной опасности. Возникала чётко выверенная, технологически отлаженная схема уничтожения советских самолётов. Когда же первая атака «охотника» не достигала результата, советский лётчик начинал маневрировать, спасая свою жизнь и самолёт. Но положение его по-прежнему было отчаянное.
Александр Покрышкин высоко оценивал тактику «свободной охоты» и пилотов, участвующих в этом виде боевой деятельности. В своей главной теоретической книге «Тактика истребительной авиации» он писал: «Истребитель-охотник – это высшая форма боевой деятельности воздушного бойца. Его задача – найти противника, сбить, а самому не понести поражения. Его девиз – НАШЁЛ, СБИЛ, УШЁЛ.
Используя исключительную хитрость и владение своей машиной, смело и уверенно поражает противника, молниеносно и внезапно. У аса должны быть сильно развиты инициатива и сообразительность, уверенность в себе и в свои принятые решения. Растерянность и паника чужды для аса» (19, с. 75).
Покрышкин нарисовал идеал охотника в небе за вражескими самолётами. Тактика «свободной охоты» всецело была направлена на уничтожение самолётов противника. Немецкие асы обладали качествами «охотника», охарактеризованного Покрышкиным только частично. Тщательно изучая мемуары известного «охотника» за самолётами Липферта, мы видим, что даже лучшие признанные в мире асы люфтваффе не всегда воплощали идеальный образ истребителя вражеских самолётов. И всё-таки, они, а особенно Э. Хартман и другие асы, добились во Второй Мировой войне астрономического счёта в победах над лётчиками воюющих с ними стран. В чём же был секрет такой успешной деятельности немецких асов-охотников и почему столь эффективный тактический метод уничтожения вражеских самолётов в небе в таком большом объёме не применялся истребителями других стран? Почему акцент на «свободную охоту» стал доминирующей тактикой истребительной авиации для группы высших немецких асов на протяжении всей их боевой деятельности?
«Свободная охота» немецких асов имела чётко выраженный системный критерий истребительной войны в небе – максимизация количества побед при минимизации условного риска быть сбитым. Этот критерий можно выразить основополагающей формулой:
где mi – число сбитых и подбитых самолётов противника i-ым пилотом, ri – средний риск в поединках, которые проводил i-ый пилот при типичной ситуации s, которая встречалась во время поражения самолёта противника.
Лидер немецких охотников за вражескими самолётами ас Э. Хартман всего в одной фразе отразил сущность типичной ситуации s: «Оцените, имеется ли у противника отбившийся или неопытный пилот. Такого пилота всегда видно в воздухе. Сбейте ЕГО. Гораздо полезнее поджечь только одного, чем ввязываться в 20-минутную карусель, ничего не добившись» (Цит. по 29, с. 404).
В словах Хартмана «Гораздо полезнее поджечь только одного, чем ввязываться в 20-минутную карусель, ничего не добившись» выражен основополагающий принцип реализации критерия системы истребительной авиации, которую называют «свободной охотой» в небе. Этот принцип был на вооружении всей многочисленной группы самых результативных немецких асов-охотников. Хотя ранее мы уже цитировали этот тезис Хартмана, но в другом контексте, однако поскольку концепция тактики «свободной охоты» для нашего исследования крайне важна, и как важнейшая часть тактики воздушной войны, и, во-вторых, как доминирующая стратегия захвата лидерства в небе.
Минимизировать риск быть сбитым и продолжать сбивать самому можно только в одном варианте, который и является оптимальным во множестве случаев, когда есть возможность участвовать в воздушном бою. Этот вариант есть атака на слабого противника, поскольку он даёт на 80% результат успеха и на 80%-ый результат выжить самому. Остаётся 20% неудачи по самым различным причинам, когда асу-охотнику не удается сбить атакуемый им самолёт или, когда, не ожидая, волею судьбы ему встречается сильный противник, и уже сам охотник вынужден бороться за свою жизнь. Так и бывало, когда немецкие лётчики, пытались охотиться за одиночным истребителем, не подозревая, что в его кабине летел с задания Покрышкин. Большинство лидеров немецких асов-охотников погибли в групповых воздушных сражениях. В таких условиях формула ( ***) не применима, так как ситуация s несёт в себе значительную долю риска попасть под огонь своего противника.
Мнение Покрышкина о тактике свободной охоты не отличалось от общепринятого: тактика «свободной охоты» даёт большие возможности уничтожения вражеских самолётов. Но Покрышкин учитывал также и большой потенциал роста личных качеств лётчика в роли свободного охотника – истребителя вражеских самолётов. Свободный охотник, по Покрышкину, должен быть храбрым, иногда и до безрассудства, грамотным тактически и технически, хитрым, инициативным, решительным, настойчивым, хладнокровным, сообразительным, уверенным в себе и своей технике (19). Но что означает смысл трех слов: «быть храбрым до безрассудства»? Только одно – при атаке противника свободный охотник идёт на максимальный риск. Это нечто другое, чем то, что предполагалось у немецких охотников с её принципом минимизации условного риска в большинстве случаев.
Покрышкин так же как командование люфтваффе видел в тактике «свободной охоты» возможности быстрого личного роста сбитых и подбитых самолётов противника. Однако Покрышкин в отличие от немецких асов, считал, что сбивать надо не слабейшего, а наоборот, сильного немецкого пилота: «Найти слабое место, выбрав удобный момент для атаки и произвести её. Стараясь сразу же нанести ему поражение, расстроить его боевой порядок (сбить ведущего), внести в его ряды панику. После чего вести бой по обстоятельствам» (19, с. 80). Если речь идёт о том, чтобы расстроить ряды, то ясно, что это не поиск одиночного, не прикрытого самолёта противника. И Покрышкин, и немецкие асы понимали тактику «свободной охоты» как достижение лётчиком-истребителем своей творческой самореализации и самовыражения, своего превосходства в воздухе, но цели использования этой тактики у них сильно отличались. У немецких асов доминировал индивидуализм, у Покрышкина и его учеников индивидуальное мастерство было основой решения коллективных задач в освободительной войне.
В общих чертах структурная схема тактики «свободной охоты» немецких асов включает в себя такие опоры:
1. Распределение областей воздушного пространства, в котором «охотники» летают или находятся в воздушной засаде в ожидании вражеских самолётов.
2. Пара немецких истребителей, состоящая из ведущего и ведомого, типичный состав истребителей, который ищет объекты для атаки в заданном районе.
3. «Свободная охота» не предполагает никакого конкретного задания для лётчиков-истребителей.
4. Высокое мастерство пилотажа «охотников» в воздухе, а также высокое мастерство их при вынужденной посадке, в частности, на «живот» «мессершмитта», а также доскональное знание до мелочей системы управления истребителем в полёте.
5. Непрерывный поиск вражеских самолётов, представляющих объекты для нападения.
6. Наиболее подходящие объекты для атаки: одиночные самолёты противника, особенно повреждённые в бою, а также пары истребителей, которые замыкают строй бомбардировщиков и штурмовиков, возвращающихся на свои аэродромы после выполнения боевой задачи.
7. При обнаружении самолёта или пары самолётов, представляющих лёгкую «добычу»:
1) ведущий или пара «охотников» летит низко над землей (подкрадывается) к объекту для атаки, маскируясь фоном земли, ведомый прикрывает ведущего, находясь на высоте;
2) пара занимает позицию на высоте со стороны солнца и ждёт момента для внезапной атаки.
8. Занятие выгодной позиции для атаки.
9. Огонь на поражение открывался с максимально близкого расстояния от атакуемого самолёта, вплоть до 50-20-ти метров.
10. Наиболее желанные самолёты для атаки, те которые находятся на территории, занятой немецкими войсками.
11. «Охотник» сопровождает намеченный для атаки самолёт, не начинает атаку, дожидаясь момента пока самолёт противника значительно углубится внутрь вражеской территории, чтобы во время атаки лётчик атакованного самолёта был лишен возможности сделать вынужденную посадку на территории врага.
12. Многократная атака на одиночный самолёт противника совершается наиболее часто пикированием сзади, чтобы зайти в хвост атакуемому самолёту.
13. Одержимость немецких асов «охотников» увеличивать свой личный счёт сбитых и подбитых самолётов противника.
14. Стимулирование немецких асов добиваться неуклонного роста числа сбитых самолётов самыми высокими наградами со стороны высшего командования люфтваффе и третьего рейха.
Такую тактическую систему «свободной охоты», хотя она носила явно выраженный импровизационный характер, можно было «отшлифовать» до мельчайших деталей, превратив её в конвейер. Что немецкие асы и сделали.
Асы – охотники люфтваффе постоянно применяли внезапную атаку с высоты на группу советских истребителей, когда они в скученном боевом порядке на невысокой скорости барражировали вдоль линии фронта, охраняя позиции своих войск от бомбовых ударов пикирующих «юнкерсов». Иногда это было подобно тренировке по целям. Пара немецких истребителей сбивала один, иногда два советских истребителя и тотчас же на высокой скорости уносилась ввысь, спасаясь от погони.
Все права защищены. Ни одна из частей настоящих произведений не может быть размещена и воспроизведена без предварительного согласования с авторами.