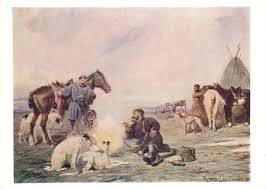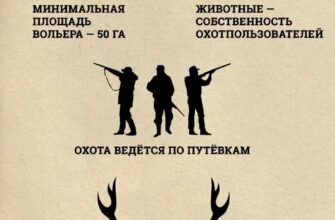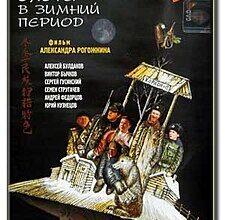Неистовый и необузданный
Петр Петрович Соколов (1821-1899)
«В Петре Соколове странным образом соединенные черты необузданного романтизма и самого искреннего реализма» – так сказал о П.П. Соколове в свое время Александр Бенуа, при этом глубоко охарактеризовав характер, дал точную оценку творческой личности мастера живописи: «Это был человек с вечно возбужденными нервами, обладавший непреодолимой наклонностью к выдумке. Его творчество вполне отражает его личность. Все оно проникнуто неистовством и необузданностью. Типичные «петрысоколовы» – это те его картины, по преимуществу охоты и народные сцены, которые созданы в порыве, пароксизме, тяп да ляп, точно зря. Они писаны всем, чем попало: и акварелью, и гуашью, и пастелью, и маслом. Физиономии действующих лиц покосились от старости или заплыли от пьянства, одежда на них мятая и рваная, лошади или мчатся в бешенстве, или в виде ужасных кляч еле перебирают ногами, избы готовы развалиться, дороги непролазны от слякоти, небо тускло от отчаяния, а леса обдерганы осенним ветром».
Данная характеристика является ценной, ведь сведений об известных художниках, славной династии Соколовых не так уж много, особенно о Петре Петровиче. В отличие от отца, знаменитого в начале 19 века портретиста, сына по праву можно назвать «блудным». В девятнадцать лет, поступив с братом Павлом в Академию художеств, и проучившись там три года, начинающий художник бросил учебное заведение. Вряд ли конфликт с Карлом Брюлловым преподавателем рисовального класса, автором знаменитой картины «Гибель Помпеи», кстати, родным дядей по линии матери, — причина ухода из Академии. Действительно, ссора была, возможно, в какой-то степени отяготила состояние души, но ссора ли побудила юное дарование к такому шагу? На заре своей жизни, незадолго до своей смерти, Петр Петрович писал одному знакомому, объясняя тот факт из своей биографии: «…решил обратиться к лучшему учителю — природе». В правдивость этих слов нельзя не поверить, в начале сороковых годов 19 века, и позже, художникам, стремившимся шире и глубже отражать жизнь, противостояло официальное искусство, основанное на устаревших художественных представлениях. Художники академической школы, отказываясь от правдивого изображения реальной жизни, создавали свои произведения на сюжеты из древней истории или мифологии. Могла ли устроить подобная обстановка в учебном заведении, удовлетворить молодого, жаждущего реализации благородных амбициозных целей начинающего художника?
Уйдя из Академии, Соколов едет в провинцию. Много путешествует по Смоленской, Тамбовской другим губерниям. (Есть все основания полагать, что «прошел» он с другом охотником Н.Г. Буниным и Малороссию). Изучает реальность, действительной без прикрас, жизни, помещичий быт. Ряд произведений Соколова: «Взимание недоимок» (1867). «Родины в поле» (1873) «На пашне» (1888) и другие — рисуют тяжелую, беспросветную жизнь крестьянства. В акварели «Потрава» дана острая социальная сцена, построенная на противопоставлении праздных забав помещика и бесправия, беззащитности крестьян.
При этом художник страстно увлекается псовой охотой, скачет в поле, пирует с друзьями. Вот как описывает охоту мелкопоместных псовых охотников И.А. Бунин в рассказе «Антоновские яблоки».
«…Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому…
Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя, — и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде и в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстёгнутых поддёвках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матёрым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым в сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол…»
Живая атмосфера, выезды в отъезжие поля, увиденное и пережитое во время травли лис, волков собаками находит свое отражение в творчестве художника. Он активно занимается рисунками, пишет акварели. «На протяжении нескольких лет П. Соколов создает большую серию произведений, которые частично были изданы в 1870-х годах отдельным альбомом «Русские охоты». Уже названия картин, акварелей «На тяге», «Убитый лось», «Охота на уток весной», «Охота на оленя», «Охота на зайца», «Охота на дроф», «Охота на глухаря», «Охота на чернышей с чучелами» и другие — говорят о том, что художник отразил многие виды охот. По утверждению Н. Пахомова наиболее лучше удавались ему сюжеты псовой охоты. «Соколов дает всю динамику псовой охоты, рисуя скачущих лошадей, убегающих зверей, спеющих к ним борзых, или изображает момент, когда, чуть ли не на скаку, охотник сваливается на волка, пришитого к земле мертвой хваткой борзых. По произведениям Соколова можно проследить весь процесс псовой охоты, начиная с выезда на охоту.
Увидеть притаившихся налазу борзятников, испытать острое волнение при виде бешеной скачки за волком, увидеть картину лихой приемки волка из-под борзых, моменты отдыха, сцены с гончими и много других разнообразных, но таких волнительных для истого охотника, моментов».
В картине «Охота на волка», показана приемка волка из-под борзых. В центре изображены два охотника, один сидящий верхом на волке, бросает взгляд на своего товарища, тот же, перенес вес тела на левую ногу в стремени, осадив на скаку лошадь. На серо-зеленом фоне резким контрастом выделяются штаны псаря. Еще секунда и он соскочит с седла, чтобы помочь своему товарищу завершить драматический момент в поимке зверя. Четыре борзых собаки, обуреваемые инстинктом добычи, готовы в любой момент придти охотникам на помощь. Художнику удалось тонко показать поведение животных, душевное состояние людей, их динамику.
«В таких работах, как «Заструнивание волка», «Охота на волка с борзыми», «Затравили лисицу» и многих других выразительно переданы разнообразные типы охотников, их ловкость, мужество, удаль скачек. Хорошая зрительная память позволяла П.П. Соколову изображать их в сложнейших движениях, в труднейших поворотах, в различных состояниях: испуганных, загнанных, настороженных. Не случайно за художником закрепилась слава непревзойденного мастера охотничьих сцен». При изображении псовых охот, художник стремиться показать не только характеры, но и конкретное место и роль каждого в процессе самой охоты. Примечательна в этом плане и акварель «Доезжачий» – cтарший псарь, распоряжающийся собаками во время охоты. Охотовед М.А. Сергеев, знаток и заводчик гончих, писал: «Но вся тяжесть работы по уходу, выращиванию, нагонке гончих, слаживанию стай, а во многих случаях и по ведению породы ложилась на плечи крепостных псарей: ловчих, доезжачих, выжлятников и др. Среди этих людей было немало выдающихся знатоков своего дела.
При этом нельзя забывать, что крепостной псарь отвечал своей спиной, если стая плохо гоняла. Конечно, любой такой псарь стремился использовать для вязок чутьистого, вязкого или особо голосистого выжлеца, не обращая внимания на породу: ведь со своего слуги барин спросит не породу, а только работу стаи. Но среди крепостных псарей были и такие мастера своего дела, которые под час глубже, чем их господа, разбирались и в работе, и в породе собак.
А каковы же были в крепостное время условия работы псарей? Прежде всего, их продавали и покупали как рабов, как скот. Правда, выдающихся ловчих (ловчий ведал всей псовой охотой – борзыми и гончими) и доезжачих ( доезжачий ведал только только гончими, он при помощи выжлятников правил стаей ) господа ценили дорого и вынуждены были обращаться с ними более сдержанно, чем с другими крепостными, зная, что от хорошей работы ловчего или доезжачего зависит успех всей охоты».
Чтобы глубже прочувствовать акварель «Доезжачий», приведем отрывок из рассказа И. А. Салова «Охотничий двор»: «… С поступлением в доезжачие Андриан, так сказать, достиг высшей ступени, охотничьей иерархии. Он сделался уже начальством, под его командой находились уже выжлятники, и ему не было, уже надобности мыкаться по острову и ждать позыва: «Иди он!» Степенно подъезжал он к острову, останавливался от него саженях в ста, чтобы до наброса не побудить зверя, и, дождавшись сигнала в рог в два тона, что означало: «На. брось!» или «Ме. чи!» — он с помощью выжлятников размыкал гончих и, постояв минут пять, пускал их в остров. В ту же минуту остров оглашался его криком. «Полезь,- кричал он,- полезь, гончие, полезь! Собаченьки, добудь, добудь! Сюда, други! Сюда, родные! Тут, улез! Тут, улез!» И порсканье его со звонками, переливами и прибаутками раздавалось по всему лесу. Но вот слышит Андриан, что Цыганка тонким дискантом отозвалась по следу, завторил ей Докучай, затянул басом Помыкай, и Андриан встрепенулся. Мигом летит он в ту сторону. «Чу! к нему! — кричит он, подзадоривая стаю к вожакам. — Чу! к нему!» — и во все время гона держится на слуху у гончих. »
В одной из публикации о П.П. Соколове читаем: «Прожив долгие годы в провинции, художник внимательно и досконально изучал окружающую его жизнь и в своем творчестве правдиво отразил типические явления действительности. Особенно убедительны образы помещиков, которых он хорошо знал. Выразительна в этом отношении акварель «На псарне». В ней создан отталкивающий образ жестокого самодура, перед грозной фигурой которого даже свора собак застыла испуганно и покорно». Что до самодуров помещиков, державших псовую охоту, действительно их было немало, но можно ли согласиться с односторонней трактовкой картины «На псарне»?
Что бы ответить на этот вопрос, обратимся к страницам известной книги о псовой охоте Е.Э. Дриянского « Записки мелкотравчатого», первая глава которой под названием «Мелкотравчатые. Очерк из охотничьей жизни» была напечатана в журнале № 2 «Москвитянина» в 1851 году. В то время Соколов уже вовсю окунулся в жизнь мелкопоместных охотников.
«…Собаки скоро очутились на бугре и уселись в два ряда вокруг корыта, в таком от него расстоянии, что можно было между ними и корытом проехать на телеге. Феопен снова взбуровил овсянку лопаткой, стукнул о край и крикнул: «Дбруц!» Собаки живо кинулись к корыту и принялись лакать.
— Ну, Феопен, ты колдун! — сказал Атукаев.
— Чем это. ваше сиятельство?
— Да как же? Кому ж придет в голову кинуть в чужом поселке, заглазно, разомкнутую стаю! Долго ли до греха?
— М-м. ничево-с. они привычны. Стой! — крикнул Феопен собакам.
Собаки тем же порядком отскочили от корыт и выровнялись; Феопен снова размешал овсянку.
Пир начался снова…»
Высшее мастерство ловчего – добиться неукоснительного послушания стаи собак, о чем и хотел передать художник в картине «На псарне».
По свидетельству современников Соколов был человеком замкнутым неуживчивым и вел уединенный образ жизни. Из его биографии знаем, что он трудно сходился с людьми и из его немногих истинных друзей можем назвать С. Н. Терпигорева, помещика и литератора, по соседству с небольшим имением которого Соколов жил в 1860 годах – (Сергея Атавы), чей портрет с собакой, выполненный гуашью в 1889 году и находящийся ныне в Русском музее, может быть назван одной из лучших работ художника.
Дружба связывала его и с другим писателем – автором охотничьих рассказов Н. Г. Буниным. Соколов посвятил Н. Г. Бунину стихотворное «Дружеское послание», в котором обещал проиллюстрировать книгу своего товарища по охоте. К сожалению, эти иллюстрации (по воспоминаниям Л. И. Писарева — друга Н. Г. Бунина, в доме которого писатель жил два последних года перед смертью, рисунки Соколова к рассказам висели в комнате Бунина) найти не удалось. Заставки же к рассказам в книге Бунина, выполненные в виньеточной манере, не соответствуют стилю П. П. Соколова, по-видимому, это оттиски с немецких изданий. Текст поэмы «Дружеское послание» Бунин, как и обещал, поместил в своей книге, правда, посмертно изданной дочерью. Остается только сожалеть, что дружба двух талантливых людей так и не реализовалась в совместном творческом проекте. Тем не менее, читая рассказ Н.Г. Бунина «Вихряй» невольно представляешь акварель П.П. Соколова «Охотники на привале».
«…А мнe почему-то вспоминались давно прошедшие, но вечно милые годы ранней молодости, мерещится тихая тамбовская степь с шумным привалом псовой охоты и встают знакомые типы родной стороны: сытые помещики с их дворовой челядью, поджарые скакуны под высокими седлами, тощие псы в цветных ошейниках — и стоном стоит над этой пестрою картиной общий говор, громкий смех, молодецкий посвист и безобидно выразительная русская брань. »
Через все творчество художника проходит тема провинциального пейзажа. Особенно любил он мотивы осенних размытых дорог с телегами и бричками, занесенные снегом поля с лихими тройками, одиноких путников, в метель разыскивающих дорогу. Его пейзажи отличаются большим поэтическим чувством, тонким пониманием красоты родной природы. Пейзаж у Соколова в охотничьих сценах живет самостоятельной, полнокровной жизнью, будучи тесно связанным с изображаемыми фигурами людей, животных на картинах. Красные штаны псаря, синяя куртка являются чудесными кусочками живописи, а пейзаж с облаками (Борзятники и др.) овеян и пронизан щемящей душу проникновенностью. Соколов успешно разрабатывает зеленый тон в написании пейзажа, особую сложность представляло вписать группу в пейзаж, избавиться от жестких контуров в прорисовке фигур.
Великолепный анималист Соколов создает множество картин с изображением лошадей. Одно из лучших произведений – большая акварель «Конная ярмарка в Лебедяни» (1886). Первый из двух вариантов этой композиции экспонировался в 1889 году на Международной выставке в Париже и получил золотую медаль. За границей работы Соколова стали известны еще со второй половины 70-х годов. В 1876 году он выставлял свои работы на Всемирной выставке в Филадельфии, а в 1879 году – в Чикаго.
Ряд своих станковых работ Петр Петрович посвятил событиям русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов, в которой он участвовал в качестве художника-корреспондента.
П. П. Соколов первый оформитель «Записок охотника», автор знаменитых иллюстраций к «Бежину лугу» и «Мертвым душам».
«Начиная с 1867 года, почти на протяжении тридцати лет, П. П. Соколов иллюстрировал рассказы из «Записок охотника», причём многие рисунки выполнялись им в нескольких вариантах. Всего художником сделано 24 листа иллюстраций: «Хорь и Калиныч», «Льгов», «Бежин Луг», «Ермолай и мельничиха», «Контора», «Бурмистр».
Эти и другие работы еще раз показывают Соколова, как выдающегося акварелиста, автора многочисленных жанровых композиций, превосходного анималиста и портретиста, первоклассного иллюстратора.
В конце жизни художник удостаивается почетного звания академика, хотя дело не в академических регалиях – произведения П.П. Соколова при его жизни были желанными приобретениями художественных музеев и частных коллекций.
«К моменту создания иллюстраций к «Мертвым» душам» этот художник принадлежал к числу наиболее талантливых мастеров пейзажного и бытового жанра, и, несмотря на разгульный образ жизни, часто ввергавший его в бедность, имел высокую репутацию в профессиональной среде».
Утверждение о том, что художник вел «разгульный образ жизни», потому и оставался постоянно нуждающимся в средствах к существованию, вряд ли в полной мере относится к Соколову. Во всяком случае, были у Петра Петровича возможности не только значительно улучшить свое материальное состояние, но и быть художником далеко не бедным. Поступали ведь предложения в 1876 году от великого князя, бывшего в то время президентом Академии художеств, взять на себя исполнение охотничьих сцен для Александра II. Соколов и в те годы нуждался в заработке, но отказался, не захотев стать придворным художником. Не в этом ли проявились его характер, верность выработанным в юности принципам? До конца своих дней так и остался П.П. Соколов «необузданным романтиком и самым искренним реалистом», подаривший миру прекрасные картины. Среди охотников, кто интересуется и любит живопись, особенно дороги работы художника, запечатлевшие сцены псовых охот 19 столетия, смотришь, и будто сам являешься участником тех охот с борзыми, ощущаешь присутствие доезжачего Андриана, ловчего Феопена. Завершить рассказ о художнике П.П. Соколове хочется незабвенными строками из «Антоновских яблок» Ивана Алексеевича Бунина:
«…Я сейчас ещё чувствую, как жадно и ёмко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семёныча, возбуждённый музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом киргизе, крепко сжимая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и лёгким коврам чёрной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздаётся в пустом сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья – и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел – всё «заварилось» и покатилось куда-то вдаль.
— Береги-и! – завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес. «А, береги!» – мелькнёт опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами, да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пёструю, растянувшуюся по земле стаю собак и ещё сильнее наддашь киргиза наперерез зверю, — по зеленям, взмётам и жнивьям, пока, наконец, не перевалишься в другой остров, и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном».